Что такое сознание? Как устроена память? Можно ли ее
восстановить или, наоборот, стереть? Можно ли сегодня понять, как работает
мозг, и какое все это имеет практическое значение? Об этом — наш разговор с
академиком Константином Владимировичем Анохиным, директором института
перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова.

Константин Владимирович Анохин
— Наша сегодняшняя тема — научная преемственность в
исследованиях мозга. Ваш дед, знаменитый исследователь мозга, физиолог,
академик Петр Кузьмич Анохин родился в семье железнодорожного грузчика, потом
стал журналистом, комиссаром печати. Все решила случайная встреча с А.В.
Луначарским, которому он рассказал о своем интересе к исследованиям мозга и желании
понять, что такое душа в материальном смысле. А.В. Луначарский помог: П.К.
Анохин стал учеником В.М. Бехтерева, затем работал под началом И.П. Павлова,
достиг невероятных научных результатов. Как вы думаете, ему удалось понять, как
устроена душа?
— Я думаю, что он
сделал фундаментальный шаг на этом пути. Когда вы сказали о случайной встрече с
А.В. Луначарским, я подумал: да, она позволила ему осуществить его мечту, но
как такая мечта могла возникнуть у сына грузчика?
Петр Кузьмич
рассказывал об этом: помимо подросткового чтения великих философов, его
побудила к этому Гражданская война — столкновение со страданиями и смертью. Они
породили в нем острое желание понять природу и смысл человеческого бытия, его
материальные основы. Недавно я читал интервью нашего выдающегося философа
Давида Израилевича Дубровского, где он рассказывал, что заняться проблемой
человеческого сознания его побудила Великая Отечественная война, в которой он
участвовал мальчишкой, став свидетелем многих человеческих страданий.
— Но ведь не обязательно нужны такие экстремальные
обстоятельства, чтобы заняться исследованиями мозга. Ваша мама продолжила такие
исследования, не будучи участницей войны, как и вы. И вы оба тоже стали
академиками.
— Это объяснить
гораздо проще, чем вопрос, почему в науку пришел человек не из научной семьи.
Кстати, Петр Кузьмич исходно хотел заниматься астрономией, очень любил
математику. Что вдруг поворачивает юношу из бедняцкой среды на такой путь?
Когда ты живешь в семье ученых, в окружении книг и разговоров о науке, это как
раз путь простой.
— С другой стороны, этот путь более сложный: вы же не
хотите быть в тени деда или мамы, вы тоже хотите состояться как ученый. А это
сложно.
— Да, но такие
мысли редко приходят на ум подростку. В этом возрасте гораздо важнее стремление
что-то понять, заняться чем-то увлекательным.
— Какие фундаментальные открытия деда вы считаете
наиболее важными?
— Он создал теорию
функциональных систем, которая произвела переворот в понимании законов работы
организма, придя на смену господствовавшей на протяжении трех веков теории
рефлексов. Разбирая этот путь, Петр Кузьмич написал в 1945 г. книгу «От Декарта
до Павлова: 300 лет истории рефлекса», посвященную 300-летней годовщине
введения Рене Декартом понятия рефлекса.
Нужно напомнить,
что Декарт выдвинул идею рефлекса, чтобы объяснить работу тела в рамках
разработанной им философии дуализма, где душа — нематериальная субстанция, а
тело — механическое устройство. И с тех пор до середины ХХ в. концепция
рефлекса как внутреннего принципа работы механического тела господствовала в
науке. Согласно Декарту, а далее и до И.П. Павлова, если бы мы могли заглянуть
внутрь организма, сделав его прозрачным, мы бы увидели, что он наполнен рефлексами.
Знаменательной
вехой на этом пути была отважная работа Ивана Михайловича Сеченова «Рефлексы
головного мозга». В ней он сделал решительный шаг в сторону материалистического
слияния души с рефлексами, утверждая, что мозг — это орган души, а внутренние
механизмы душевной жизни — по сути, рефлексы. Он стал первым физиологом мира,
который поместил рефлексы не только в спинной мозг, но и в головной, где они,
согласно И.М. Сеченову, составляют душевные движения. А И.П. Павлов продолжил
эту материалистическую линию, заявив, что «вся душа может быть вогнана в известные
правила такого объективного исследования».
— А Петр Кузьмич создал свою теорию?
— Усвоив многое в
школах В.М. Бехтерева и И.П. Павлова, а также в зарубежных нейробиологических
исследованиях, к которым П.К. Анохин был очень внимателен, он начал к концу 1920-х
гг. понимать, что принцип рефлекса не подходит для объяснения работы организма
и устройства его высшей нервной деятельности.
— Она не подходит или ее недостаточно?
— Не подходит. И
поэтому, когда у него в 1930 г. выдалась возможность возглавить кафедру
физиологии в Нижнем Новгороде, он начал там три новых направления исследований
нервной деятельности. И уже в первых статьях по каждому из них он утверждал,
что схема рефлекса не может удовлетворять науку на современном этапе ее развития.
— То есть он напрямую спорил со своим знаменитым
учителем?
— Да. В одной из
этих статей, посвященной кризису рефлекторной теории нервной деятельности, он
писал: «Все больше и больше накапливаются факты, которые совершенно не могут
быть втиснуты в жесткие рамки рефлекторной теории и требуют более динамического
и комплексного понимания механизма нервной деятельности». И спустя несколько
лет: «Я могу заявить сейчас, как и раньше, что рефлекторная концепция на уровне
современных знаний меня не удовлетворяет. Наши работы целиком посвящены поискам
новой, удовлетворяющей нас концепции в области нервных функций».
В ходе этих
поисков и экспериментов Петр Кузьмич пришел в середине 1930-х гг. к концепции
функциональной системы — универсальной единицы целостной деятельности
организма, устроенной совершенно иным образом, чем рефлекс. Функциональная
система — это не просто продолжение или расширение рефлекса. Она, например,
содержит нервный аппарат, отвечающий на принципиальный вопрос, не решенный И.П.
Павловым в рамках рефлекса, — о физиологических механизмах целеполагания,
«рефлексе цели», как его назвал сам Иван Петрович.
— Что же это такое?
— Этот вопрос
очень сложен и восходит еще к Рене Декарту. Как наше желание согнуть палец или
пойти куда-то определяет наши действия? Цель — это ведь категория психологии,
психическое намерение. Как она рождается в нервной системе в отсутствие
каких-либо внешних стимулов и как она определяет дальнейшее течение
нейрофизиологических процессов, управляющих движением?
Из задачи
объяснить материальные основы этих процессов, а также на основе множества
экспериментов, которые он проводил со своими сотрудниками в Нижнем Новгороде,
П.К. Анохин пришел к идее функциональной системы — принципа, заменяющего
рефлекс в роли единицы приспособительной деятельности организма. Функциональной
системой, писал он, мы называем всякую организацию нервных процессов, в которой
отдаленные и разнообразные импульсы нервной системы объединяются на основе
одновременного и соподчиненного функционирования, заканчивающегося полезным приспособительным
эффектом для организма. И даже самые сложные формы высшей нервной деятельности
могут быть объяснены с точки зрения этих принципов.
— Что это значит?
— Это значит
следующее. Если действие организма должно принести полезный эффект, то у него
непременно должно быть некоторое средство, какой-то аппарат, позволяющий знать
еще до того, как действие осуществлено и закончилось, каков должен быть этот
результат. Этот аппарат, связанный с целью и ее поддержанием, в теории получил
название акцептора результата действия. Только имея такой нейрофизиологический
аппарат, животное или человек могут понять, что допустили ошибку, или,
наоборот, испытать удовольствие от достижения полезного результата. Так понятие
функциональной системы начало наполняться конкретными системными механизмами
деятельности мозга.
Это был поворотный
пункт в физиологии и в том, что интересовало И.П. Павлова и самого Петра
Кузьмича: как решить проблему души и тела, а конкретнее разума и мозга, так
называемую психофизиологическую проблему. В англоязычной философии она
называется Mind-Brain Problem.
— Как же она решается?
— Решение, которое
нашел П.К. Анохин, лежало на путях развития идеи, пришедшей в революционную
Россию в начале 1920-х гг., — диалектического материализма. Этот философский
принцип рассматривает природу как имеющую разные этажи, и материя на каждом
этаже — физика, химия, биологические системы, разумные системы — приобретает
свои новые специфические свойства.
Эта идея захватила
в физиологии Петра Кузьмича Анохина, а в психологии — Льва Семеновича
Выготского. Идея была одна и та же: возникает новый уровень, он имеет новые
свойства, формирующиеся за счет изменений предыдущего уровня. Для Л.С.
Выготского этим новым уровнем был социальный и то, как его появление
трансформирует механизмы высшей нервной деятельности. А для Петра Кузьмича
ровно этот же вопрос диалектического перехода между смежными уровнями состоял в
том, как из физиологических процессов возникают процессы психические, изменяя
при этом структуру и законы первых.
У И.П. Павлова же
была другая идея: психические процессы — это то же самое, что элементарные
физиологические процессы, просто мы видим их разным образом. П.К. Анохин
сказал: нет, их нельзя напрямую соотносить — между ними должен быть
концептуальный мост, особый промежуточный уровень, состоящий из специфических
законов организации элементарных физиологических процессов. Как он писал,
развивая эту идею в 1940-е гг., «мы никогда не сможем подойти к анализу
приспособительного и целеустремленного движения человека, если не произведем
некой промежуточной операции, заключающейся в таком синтезе всего физиологического
материала, который помог бы увидеть принципы, свойственные только целостной
организации».
Организация
физиологических процессов приобретает при этом такие особенности, такие
структуры, которые и оказываются носителями психологических свойств.
Концепцией, описывающей эти специфические законы системной организации, и стала
теория функциональных систем. Вот главное, что он сделал.
— Как я понимаю, идея функциональных систем имела
глубокие корни в эволюционной теории Дарвина?
— Да, это так.
Чарлз Дарвин в теории естественного отбора постулировал ключевые принципы,
согласно которым за миллионы лет работы образуемого ими алгоритма возникают
новые виды животных. Но как эти принципы устроены внутри, в то время понятно не
было.
Например, одним из
центральных моментов у Дарвина был принцип борьбы за существование. Но что
именно делает организм в каждый эпизод своей борьбы за жизнь, в итоге которого
он выживает или не выживает?
Чтобы это понять,
нужно было заглянуть внутрь организма, сделать его прозрачным, увидеть, как эта
борьба им осуществляется. В физиологии XIX в. такой возможности не было. Сейчас
методами науки XXI в. это уже доступно. Но путь к этому был проложен в середине
XX в. в теории функциональных систем, когда было сказано, что мишенью
естественного отбора в индивидуальных организмах служат физиологические
интеграции, достигающие полезных приспособительных результатов в борьбе за
выживание. Это соединило физиологию и психологию с эволюционной теорией в
биологии.
— Каким образом организм можно сделать прозрачным?
— В 2003 г. я
начал большой проект, который назвал «Прозрачный мозг». Его идея заключалась в
том, чтобы с помощью методов визуализации клеточной активности целого мозга,
которые мы нашли в 1990-е гг., попытаться воочию увидеть функциональные системы,
их состав: какие клетки работают в них вместе, в каких областях ЦНС они
расположены, как они координируются, откуда возникают такие сообщества и как они
дальше живут.
Эту возможность
нам дало то, что мы нашли гены, включающиеся в нейронах мозга, когда те
сталкиваются с новой задачей и объединяются в совместные коллективы — новые
функциональные системы. С помощью набора методов молекулярной биологии и молекулярной
нейроанатомии, клеточного имиджинга нервной системы стало возможным пометить
эти клетки и увидеть, где они находятся во всем мозге.
— Чей мозг вы использовали?
— Мы работали с
разными экспериментальными животными, потому что эти гены достаточно
универсальны. Они активируются в нервных клетках мозга, которые решают какие-то
новые поведенческие задачи, формируют новые функциональные системы. Мы смотрели
их экспрессию в мозге беспозвоночных, например моллюсков или пчел; у различных
видов позвоночных, например у амфибий; у птиц — мы много работали с
новорожденными цыплятами, которые очень хорошо учатся новым задачам; у
млекопитающих — это в наших экспериментах были мыши, крысы. Тут важно иметь
широкую панораму.
Анализируя эту
глобальную активность мозга, я подумал, что идея сделать прозрачным организм, в
котором работают те или иные функциональные системы, близка к возможности
осуществления. Об этом мечтал еще И.П. Павлов. В одном из своих выступлений он
предложил такой образ: «Если можно было бы видеть сквозь черепную крышку и если
бы место больших полушарий с оптимальной возбудимостью светилось, то мы увидели
бы на думающем сознательном человеке, как по его большим полушариям
передвигается постоянно изменяющееся в форме и величине причудливое светлое
пятно». Но это был мысленный эксперимент, фантазия.
— Однако для вас это не фантазия. Прошло уже 20 лет с
момента начала этого проекта. Что вам удалось сделать?
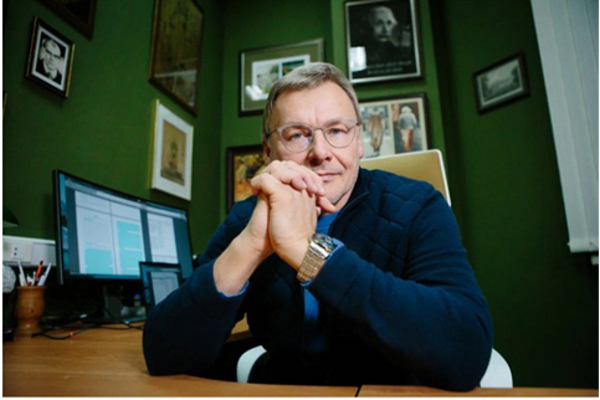
Константин Владимирович Анохин
— Мы придумали
способы просветлить различные ткани организма, в том числе мозг. Для этого
используются специальные химические составы, которые замещают воду в тканях
организма на другие молекулы, имеющие такие же показатели оптического преломления,
как белки, мембраны и другие молекулярные компоненты ткани. Тогда свет проходит
через такую среду, уже не преломляясь.
Начать искать
такие составы меня подвигла одна из любимых книжек детства — «Занимательная
физика» Якова Исидоровича Перельмана. В ней он приводит диалог героя романа
Герберта Уэллса «Человек-невидимка», гениального физика, с его знакомым, где
герой объясняет принципы получения такой прозрачности. Для этого нужно заменить
жидкости в организме на такие, которые будут иметь одинаковые показатели
преломления с его тканями. «Всякая прозрачная вещь, — говорит он, — становится
невидимой, если ее поместить в среду с одинаковым с нею показателем
преломления». И дальше Перельман пишет, что это можно сделать: такие составы
для просветления были изобретены в начале XX в. немецким профессором Вернером
Шпальтегольцем, и в анатомических музеях мира можно увидеть полученные этим
методом прозрачные препараты тела, даже целых животных. Тогда я начал искать
старых анатомов, препараторов, которые могли хранить составы этих жидкостей.
— Нашли?
— Нет, не смог,
они все уже умерли. Поэтому мы начали пробовать разработать собственные
составы. Для этого были уже какие-то наработки, что-то было опубликовано в
литературе. К 2007 г. мы научились просветлять мозг и другие органы на 95–97%.
А в 2009 г., когда начали работать в Курчатовском институте, куда в этот момент
состоялся визит нового президента страны Д.А. Медведева, мы решили показать ему
проект «Прозрачный мозг». И одна из моих сотрудниц, Ольга Ефимова, как раз
разрабатывавшая эти новые составы, придумала такой трюк. Для того чтобы видеть,
что мозг прозрачный, мы помещали его в колбу с просветляющим раствором, под
дном которой располагался лист расчерченной бумаги, чтобы ее линии были видны
сквозь просветленную ткань. Оля сказала: «А давайте, когда будем показывать это
Медведеву, возьмем только что вышедшую его статью “Россия, вперед!” и дадим ему
прочитать текст этой статьи сквозь прозрачный мозг мыши».
Действительно, он
читал через микроскоп текст этой статьи, и фотографии с тем, как он это делает,
облетели все новостные ленты: «В Курчатовском институте сделали мозг
прозрачным!» А в 2013 г. журнал Science включил метод просветления мозга,
изобретенный американскими учеными, в число десяти самых крупных научных открытий
года.
— На пять лет
позже вас?
— Да, это была
работа выдающегося американского нейробиолога Карла Дейссеротта, он изобрел
иную методику просветления, но использовал тот же прием для ее демонстрации.
Они положили под мозг мыши высказывание классика нейронауки Сантьяго
Рамона-и-Кахаля, чтобы через прозрачный мозг можно было прочитать эти слова. И
есть фотография, где американский президент Барак Обама, так же как у нас Д.А.
Медведев, смотрит в микроскоп и читает текст через просветленный мозг.
— Что вам удалось понять в таком прозрачном мозге?
— Мы поняли, что даже
один короткий эпизод какого-то нового события активирует в мозге животного
сотни тысяч клеток, распределенных по всему мозгу. Мы впервые увидели такую
функциональную систему, и это действительно никак не была рефлекторная дуга.
Более того, стало возможным посчитать, сколько клеток одновременно активируются
в таком эпизоде. В мозге у мыши — около 70 млн нервных клеток. Подсчеты
показали, что за один раз по всему мозгу активируется около полумиллиона
клеток, это весьма большой процент.
— А это действительно необходимое организму количество
или просто мозг так расточителен?
— Мы пока точно не
знаем. Но, похоже, мозг это делает с избытком. В начале 2000-х гг. мы в
сотрудничестве с профессором Ю.И. Александровым из Института психологии РАН
проводили исследование, где, с одной стороны, соединили способ выявить при
обучении активацию нервных клеток по экспрессии найденных нами генов, с другой
стороны, через какое-то время провели нейрофизиологическую регистрацию, чтобы
понять, как и когда в поведении работают эти клетки. Ольга Евгеньевна Сварник,
работавшая и в Институте психологии РАН, и у меня в лаборатории, написала
диссертацию, в которой были соединены эти два подхода. Она смотрела в областях
коры головного мозга, сколько клеток активируется во время обучения: крыса училась
нажимать на педаль, чтобы получить пищу. Поведенческий акт «нажать на педаль,
чтобы потом пойти к кормушке и забрать пищу» требует обучения, в которое
вовлекается определенное количество нейронов. А потом она нейрофизиологически
выявляла в тех же областях коры процент клеток, которые избирательно работают
при нажатии крысой на педаль.
Оказалось, что
нейронов, работающих в той или иной области коры специально для нажатия на
педаль, на порядок меньше, чем клеток, которые активировались по экспрессии
генов в момент начала этого обучения. Мы до конца не знаем почему, но такой
факт есть и он важен.
Может быть, когда
мозг сталкивается с какой-то неожиданностью, «удивляется» и начинает думать над
этим, активируется много клеток, но потом из них выбирается только часть
клеток, которые становятся «специалистами» в этом виде деятельности. То есть не
все нейроны, которые активируются при обучении, становятся теми, которые нужны
мозгу для выполнения выученного поведения.
— Можно ли это увидеть другими способами?
— Да, можно. Уже к
2010 г. мы начали разрабатывать подходы следующего этапа: увидеть не одно
событие в мозге, а пометить клетки, вовлекающиеся в два когнитивных события,
разнесенных в мозге во времени.
Почему это важно?
Если мы можем пометить все клетки, которые вовлекаются, когда мозг запоминает
что-то, и увидеть это во всех областях мозга, то, имея второй маркер для такого
же процесса пластичности, мы можем узнать, какие из числа первых клеток
активируются, когда мозг извлекает память, вновь попадая в эту ситуацию. Это
влечет за собой возможность начать получать ответы на многие фундаментальные
вопросы.
Например, на
протяжении всего XX в. ученые занимались вопросом «Как мозг запоминает
что-то?», но в значительной степени это были «поиски под фонарем». Во время
запоминания в мозге разворачиваются специфические биохимические процессы,
которые можно выявлять, поэтому есть методы это исследовать. А когда происходит
моментальное извлечение чего-то из памяти и для этого нет маркеров, то механизмы,
лежащие в основе этого, представляют собой терра инкогнита. Непонятно, какими
экспериментальными подходами это изучать.
Поэтому
происходящее при извлечении из памяти очень долго оставалось темным местом. Как
мы способны практически моментально собрать из миллиардов клеток те, которые
составляют одно конкретное событие — воспоминание? Как мозг это делает? И тут
мы нашли способ пометить клетки, которые вовлекаются в мозге, чтобы запомнить
что-то, а потом — когда вспоминают это.
— Это одни и те же клетки?
— Традиционно
считалось, что те клетки, которые запоминают, они же и вспоминают. Думали, что
в момент запоминания между ними формируются какие-то устойчивые связи,
проторяются более эффективные синаптические контакты, и потом с их помощью эти
же клетки вспоминают. Очень естественная идея.
— А что оказалось?
— Когда мы и
другие исследователи начали делать такие двойные картирования в мозге, то оказалось,
что в момент извлечения памяти экспрессия генов активируется в около 30–40% тех
клеток, которые работали в момент запоминания. А остальные клетки — другие, в
них тоже активируются гены пластичности, но эти нейроны не экспрессировали
такие гены во время запоминания.
Перечисленные мною
находки рождают много фундаментальных следствий для понимания устройства памяти.
Одно из них: если даже единичное событие в мозге охватывает почти сотню
областей мозга и полмиллиона клеток в мозге у мыши, а у человека — десятки или
сотни миллионов, то как вообще мозг может забыть такое? Например, при
нейродегенеративном заболевании. Невозможно представить, чтобы все эти десятки
миллионов клеток в разных областях вдруг потеряли связи между собой или погибли
от процесса дегенерации.
Это привело нас к
давно обсуждаемой в психологии идее, что потеря памяти может быть связана не с
потерей следа памяти, а с потерей доступа к нему. То есть, может быть, нейроны
этого следа на 80–90% в мозге есть, но их совместную активность нельзя больше
извлечь.
— Возможно, есть такой способ?
— Именно об этом
мы и задумались. Может быть, есть способ восстановить доступ к этим «утерянным»
следам? И мы начали разрабатывать инструменты и методы «напоминания» мозгу, чтобы
он достроил эту сеть, к которой нарушился доступ или нарушились какие-то ее
внутренние связи. И мы нашли способы, как это можно сделать при уже
разрушенной, казалось, памяти. Причем мы это показали на разных животных — на
птицах, на млекопитающих.
— Каким образом это можно сделать?
— Процедурами,
которые носят название напоминания. По сути, это воздействие на организм
какого-то стимула, который может «подергать» те части нервной сети, которые
формировались в момент обучения. Однако это не новое обучение — вы напоминаете
только один фрагмент ситуации.
— Таким способом можно лечить болезнь Альцгеймера?
— Этого мы сказать
не можем. Мы лишь установили, что так можно восстанавливать память у животных,
у которых она специально нарушена. Спустя 15 лет новые способы такого восстановления
были найдены в лаборатории нобелевского лауреата Судзуми Тонегавы (США). Он и
его сотрудники показали, что это также можно сделать, стимулируя мозг не
сенсорными стимулами снаружи, а специальной технологией оптогенетической
стимуляции клеток мозга, которые участвовали в этом «следе памяти». Они метятся
с помощью особых вирусов в момент, когда формируется эта память, а далее в мозг
вживляются специальные оптические волокна, которые заставляют разряжаться
только эти клетки, если подавать по ним свет. Оказалось, что, если
простимулировать нейроны этого следа памяти у животного, у которого память
перед этим была нарушена, она может быть восстановлена. То есть в обоих случаях
— и в наших, и в их экспериментах — происходит возвращение памяти, ушедшей,
казалось бы, навсегда.
— У вас не было попыток делать такое на
людях-добровольцах?
— В научных
исследованиях это всегда самостоятельный и очень ответственный вопрос. Да, у
меня были такие попытки. Еще в 2000-х гг. я обсуждал возможность, даже
протоколы таких исследований с профессором С.И. Гавриловой, руководителем отдела
гериатрической психиатрии и отделения болезни Альцгеймера и ассоциированных
с ней расстройств ФГБНУ «Научный центр психического здоровья». Но не сложилось.
Это же требует грантов, сотрудников и т.д. Я думаю, что это еще ждет своего
часа.
— Можно ли такие методы применять по отношению к
деменции?
— С этим связан
другой наш проект, который мы сейчас ведем. В 1990-е гг. мы обнаружили, что те
же молекулярные механизмы, которые участвуют в сохранении следа памяти в
момент, когда он формируется, неожиданно реактивируются, когда память
извлекается в условиях какой-то новизны. Если же не дать им сработать, то
происходит парадоксальная вещь: давно сформировавшаяся память, казалось, уже
уложившаяся и плотно существующая в мозге, исчезает.
— Можно стереть память?!
— Да, в момент
таких извлечений. Одновременно с нами такой же эффект обнаружили французские, а
несколькими годами позже и американские ученые. И сейчас это установившаяся
вещь.
— Это может быть актуально для тяжелых, травмирующих
воспоминаний?
— Совершенно
верно. Таким образом сейчас пытаются стирать травматические воспоминания.
— А это не опасно — стирать память? Вдруг именно эти
воспоминания, пусть и травмирующие, были чрезвычайно нужны человеку для
сохранения его личности?
— Опасность
существует. Все-таки вмешательство в глубокую нейрофизиологическую природу
нашего «я» — вещь крайне ответственная. Неслучайно исследования памяти породили
необходимость создания специальных нейроэтических комиссий. Я участвовал в ряде
таких международных заседаний по нейроэтике и регуляции высших функции мозга, в
том числе и памяти.
Но вот аргументы
«за». Травматические события драматически меняют личность и всю жизнь человека.
Мы знаем много таких примеров. После Первой мировой войны было большое количество
людей, которые вообще теряли память, их находили в разных странах Европы, и они
не помнили, кто они. Посттравматические расстройства влекут за собой и очень
серьезные соматические расстройства. Поэтому здесь «не до жиру, быть бы живу».
Основание вмешиваться в память при таких тяжелых клинических случаях есть.
Второе — мы
неожиданно выяснили, что на самом деле эта память не уходит. В начале этих
исследований мы думали, что имеем дело со стиранием памяти, и назвали этот
процесс реконсолидацией, то есть повторной консолидацией (процесс запоминания
называется консолидацией). Нам казалось, что если ему препятствовать, то старая
память уничтожается, а новая не сформировалась.
— Но память сохраняется «в облаке»?
— Оказалось, что
со временем в ряде ситуаций память может возвращаться назад. Мы стали думать,
как и почему это происходит. Постепенно стало ясно, что на самом деле
происходит что-то более сложное: в момент, когда память извлекается в новой
обстановке, формируется дополнительный модифицированный след памяти, который
становится верхним в постепенно накапливающемся «бутерброде» следов памяти об
одном и том же. Когда вы в следующий раз извлекаете воспоминание, используется
этот верхний слой, который и работает. И вы его помните. А старые следы при
этом не стираются, они лишь подавляются, идут в «нижние этажи». Но есть
какие-то ситуации, когда они могут «всплыть» и опять показаться на поверхности.
— А при деменции такая же картина — память полностью
не утрачена? Человек может вспомнить в какой-то ситуации?
— В этой области
существует очень необычный феномен. Он известен с древних времен и был достаточно
подробно описан в XIX в., но притягивать к себе внимание стал лишь в последнее
десятилетие, когда многие врачи и медсестры, ухаживающие за пациентами с
различными видами деменции в так называемых клиниках памяти, стали замечать,
что встречаются с таким явлением.
Человек, который,
казалось бы, находится в глубочайшей деменции и не узнает даже близких, вдруг
перед смертью приходит в ясное состояние сознания и к нему возвращается его
память. Он способен узнать своих родственников, разговаривать с ними о том, что
он, казалось бы, уже давно потерял и не помнит. И после этого он вскоре
умирает. Такой феномен назвали конечной, или предсмертной, ясностью сознания —
terminal lucidity. В последнее время скопилось настолько много таких
наблюдений, что по ним стали проводить специальные исследования. Так, недавно
Национальный институт здоровья США начал крупную программу по исследованию
этого явления в американских клиниках.
Что стоит за этим
таинственным феноменом? Есть разные теории того, что при этом происходит.
Кажется, это состояние бывает в двух формах: либо буквально за несколько часов
перед смертью, либо это развивается за неделю-две до смерти. Но в обоих случаях
одна из практических вещей, которая из этого следует, такова: если пациент,
который, казалось, все забыл, вдруг приходит в «ясное состояние», он через
некоторое время уйдет. А нервные механизмы этого явления — до сих пор загадочная
вещь. По-видимому, какие-то очень существенные следы индивидуально приобретенных
функциональных систем мозга остаются даже при очень глубокой нейродегенерации,
и, возможно, в условиях выброса какого-то большого количества медиаторов,
гормонов, связанных с развитием физиологических процессов предсмертного
состояния, они могут выйти из забвения.
— Этому посвящен ваш проект?
— Нет, проект,
который мы сейчас ведем, посвящен другому. Когда мы обнаружили феномен
реконсолидации, в голову сразу пришла мысль: получается, что если человек в
условиях ослабленных возможностей запоминания, например когда он принял большую
дозу алкоголя, вспомнил о чем-то, извлек что-то из памяти, то назад он
«положить» это не может? И это будет вести к процессам забывания.
Другой такой
случай — развитие нейродегенеративного заболевания. Мы знаем: оно начинается с
того, что у людей поначалу нарушается способность запоминать одиночные новые
события, мелкие факты жизни. Это так называемая антероградная амнезия —
неспособность запомнить что-то новое. Постепенно болезнь развивается и в
сторону ретроградной амнезии, когда люди начинают терять память и о давно случившихся
событиях. И чем дальше, тем глубже и глубже в прошлое, до самого детства.
Традиционным
объяснением ретроградной амнезии было то, что при нейродегенерации происходит
массированная гибель нервных связей и нервных клеток в мозге. Это и правда так,
из-за этого разрушаются следы старой памяти, которые обслуживались этими
клетками.
Но моя гипотеза на
основе наших экспериментов с реконсолидацией заключалась в том, что, кроме
пассивного процесса разрушения памяти, вызванного гибелью связей и нейронов, за
ретроградной амнезией при деменции кроется и второй механизм — саморазрушения
памяти. Можно сказать, что это подобно аутоиммунному процессу, в котором
активность нормальных адаптивных реакций при патологических условиях атакует и
разрушает организм. Согласно моей гипотезе аутодегенерации памяти, если
человек, у которого в силу развивающегося нейродегенеративного процесса
нарушены механизмы консолидации памяти, начинает вспоминать о чем-то из прошлой
жизни, то этот след памяти лабилизуется, но заново консолидироваться,
запомниться он не может. И получается, что, просто вспоминая какие-то вещи,
мозг человека в таком болезненном состоянии будет разрушать свои старые следы
памяти.
— Вы проводили такие исследования?
— Да, мы ведем
такой проект, поддержанный Российским научным фондом. В нем мы проверяем эту
гипотезу в разных модельных ситуациях, в частности на моделях болезни
Альцгеймера у трансгенных мышей, несущих мутации, вызывающих формирование в
мозге амилоидных структур.
В проекте мы
изучаем два вопроса. Первый, принципиальный: верна ли гипотеза, что, если животному
при такой патологии давать вспоминать о чем-то старом, уже отложенном в памяти,
этот старый след памяти будет ослабевать? Второй: известны молекулярные
механизмы, лежащие в основе лабилизации следа памяти в момент, когда он извлекается.
В это вовлечены рецепторы к определенным нейромедиаторам на нервных клетках, и
есть фармакологические вещества, способные заблокировать этот процесс и не дать
следу памяти лабилизоваться.
Мы стали проверять
оба этих вопроса и показали: да, старая консолидированная память в таких
условиях может разрушаться. А следующий этап проекта у нас идет сейчас: можно
ли найти вещества, которые служат протекторами саморазрушения памяти? Смысл в
том, что мозг, ослабленный амилоидной патологией, неспособен запомнить что-то
новое. Да, это плохо. Но если давать эти протекторы, то по крайней мере
извлекая старые следы памяти, он не будет их терять.
— Что это за протекторы?
— Это очень
интересно. Вид рецепторов, вовлекающихся в лабилизацию, перевод следа памяти в
чувствительное состояние, называется n-метил-D-аспартатные рецепторы
(NMDA-рецепторы). Это особые рецепторы к одному из основных передатчиков
сигналов нервной системы — глутамату. И существуют антагонисты этих рецепторов
— вещества, блокирующие передачу ими сигналов. Оказалось, что среди четырех
используемых сегодня в мире лекарств, замедляющих развитие симптомов болезни
Альцгеймера, одно обладает воздействием на NMDA-рецепторы. Это удивительно:
медики эмпирически нашли это вещество.
Мы начали
использовать его в экспериментах, но в клинике используются и другие лекарства,
обладающие таким эффектом на NMDA-рецепторы. Их никто еще не проверял на
нарушениях памяти при болезни Альцгеймера. И мы сейчас испытываем эти вещества
на животных, чтобы понять, способны ли они быть протекторами памяти.
— Нам когда-нибудь удастся понять механизм работы
мозга полностью? Или это в принципе невозможно: нельзя осилить задачу познания
мозгом самого себя?
— В вашем вопросе
есть опасное слово «полностью». Наука не может и не должна знать что-то во всех
конкретных деталях. Если, например, открыты законы статистической механики, то
это не означает, что, зная их, вы можете знать положение и движение каждой
молекулы газа в колбе. Вам и не нужна такая полнота знания, как и знание активности
каждого из 100 млрд нейронов мозга человека, — вам нужно знать операциональные
законы и принципы.
Поэтому, если вы
меня спросите о возможности понять мозг «полностью», я скажу — нет, нельзя. Но
фундаментальные принципы работы мозга, я уверен, понять можно. Если бы я не был
в этом уверен, я бы этим не занимался.
— Вы чувствуете, что уже близки к этому?
— Если я скажу
«да», то это может оказаться большой ошибкой. Поэтому я лучше процитирую два
высказывания Альберта Эйнштейна, отражающих две противоположных стороны
подобных чувств. Вот одно из них: «Годы тревожных поисков в темноте истины,
которую чувствуешь, но не можешь выразить; сильнейшее желание и чередование
уверенности и тревожных сомнений, пока не достигнешь ясности и понимания, могут
быть поняты лишь теми, кто испытал их». Я хочу подчеркнуть здесь слова о
чередовании состояний уверенности и тревожных сомнений, «зверя сомнений», как
говорил И.П. Павлов, бросающих исследователя от полюса надежды к полюсу уныния
и отчаяния.
Но, с другой
стороны, Эйнштейн говорил и следующее о периоде создания теории
относительности: «Чувство направления было сильное. В течение всех этих лет было
чувство направления. Чувство, что иду к чему-то конкретному».
Как видите, при
поисках в темноте трудно быть в чем-то абсолютно уверенным. Но в чем я
действительно убежден, так это в том, что нас непременно ждет крупный шаг на
пути познания мозга, шаг, который многое изменит в нашем представлении о мире и
о себе.
— Так какой шаг будет решающим?
— Теория. Эйнштейн
писал по этому поводу: «Когда мы говорим, что понимаем группу природных
явлений, мы имеем в виду, что нашли конструктивную теорию, которая их
охватывает». Единственный верный путь, ведущий к решению проблемы мозга и
сознания, мозга и психики, мозга и разума, — это иметь теорию, которая скажет
нам, как устроен мозг и как из этого закономерно вытекает все, что мы наблюдаем
в своей субъективной жизни, внутреннем мире, в поведении других. Объяснит, как
из этого следует то, что в древние времена называлось «душой», а потом получило
название психики, разума и т.д. — закономерных явлений сложного материального
мира, дошедшего в своей эволюции до этого уровня.
— Мы с вами начинали с преемственности, давайте ею и
закончим. Ваш дед стал учеником великих людей, сам достиг больших результатов.
У вас тоже немало учеников, вы много внимания уделяете молодым людям из МГУ, а
также ребятам, которые занимаются исследованиями на гранты десятилетней программы
«Мозг» научного центра «Идея». Почему это так важно для вас?
— Да, это
действительно важно. Думаю, оттого, что если ты сам в юности пришел в науку со
стремлением понять окружающий мир, то ты знаешь, что именно юность в наиболее
чистом виде без какой-либо корысти стремится к этим высотам. И ее обязательно
надо в этом поддерживать. Станет ли человек ученым, вступит ли он на трудный
путь поисков истины в темноте? Ответ очень во многом зависит от этой поддержки
в начале пути.